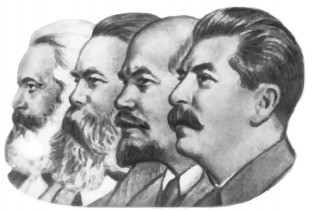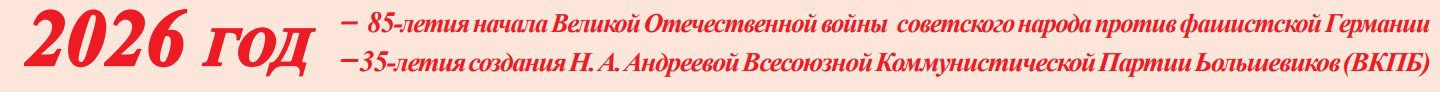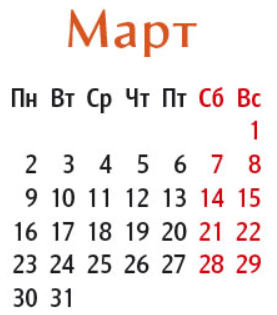Фаршированную свиную голову заказывали?
Он опубликовал очерк "Нехорошие места. Площадь Революции" про парижскую площадь Согласия, в котором, в частности, пишет: "Так называлась современная Площадь Согласия в 1792–1795 гг. Всего три года - но такие, после которых, казалось бы, мостовую никогда уже не отмыть. Ничего, французы отмыли. Как-то у них, непостижимым для меня образом, это получается. Вот на этом самом месте президент республики 14 июля каждого года принимает парад. По-моему, жуть и кощунство – всё равно что мы станем устраивать парады на Бутовском полигоне. Но французам, конечно, видней. Они любят свою революцию и считают её людоедскую ипостась чем-то хоть и несимпатичным, но в историческом смысле извинительным. А вот я это место очень не люблю. Крутится колесо карусели, а мне слышится скрип гильотины... Во время Большого Террора, с мая 1793 года по июнь 1794 года, здесь совершалось в среднем по двадцать публичных казней в неделю... Пляс Конкорд. В прекрасном городе Париже мало плохих мест. Самое поганое – это."
Конечно, напрашивается вопрос: вы что же, г-н Акунин, ставите недоумкам-французам в пример своих мудрых российских соотечественников? Ведь эти простаки-французы почитают свою революцию, каждый год под звуки "Марсельезы" парадом празднуют день её начала. То ли дело у нас, где монаршиим повелением отменено празднование 7 Ноября, где и с экранов ТВ, да и вообще повсюду последние 20 лет непрерывно льётся грязь на собственную революционную историю. Потому-то, наверное, у этих бедняг-французов всё и идёт вкривь и вкось, вот даже прославленный артист недавно не выдержал - сбежал от них к русским берёзкам. Патриотичненько у вас получилось, г-н Акунин, даже весьма.
Но любопытно другое. Либералы и демократы столетней давности, XIX и начала XX веков, высказывались о Французской революции совершенно иначе.
Вот, к примеру, что говорил о ней Виктор Гюго в речи, посвящённой Вольтеру: "До Революции, господа, социальное устройство было таково: Внизу — народ. Над народом — религия в лице духовенства. Рядом с религией — правосудие в лице суда. Что же представлял собой народ в тот период жизни человеческого общества? Невежество. Что представляла собой религия? Нетерпимость. Что представляло собой правосудие? Несправедливость. Выразился ли я слишком резко? Судите сами. Я ограничусь тем, что приведу два факта, но достаточно убедительных. 13 октября 1761 года в Тулузе, в комнате нижнего этажа одного дома, находят повешенным молодого человека. Народ взволнован, духовенство мечет громы и молнии, судебные власти начинают следствие. Это было самоубийство, но его изображают как убийство. В чьих интересах? В интересах религии. И кого же обвиняют? Отца. Он гугенот и хотел помешать сыну стать католиком. Это обвинение чудовищно с точки зрения моральной и невозможно с точки зрения физической; какая разница! Этот отец убил своего сына, этот старик повесил молодого человека. Правосудие работает, и вот развязка. 9 марта 1762 года седовласого человека, Жана Каласа, привозят на площадь, раздевают донага, кладут на колесо. Он связан, голова свисает на грудь. Три человека находятся на эшафоте: муниципальный советник по имени Давид, которому поручено наблюдать за казнью, священник с распятием и палач с железной полосой в руке. Потрясенный и охваченный ужасом старик не смотрит на священника, он смотрит на палача. Палач поднимает железную полосу и раздробляет ему руку. Осужденный издает вопль и теряет сознание. Советник суетится, осужденному дают понюхать солей, и он возвращается к жизни; тогда — снова удар железной полосой, снова вопль; Калас теряет сознание; его приводят в чувство, и палач начинает все снова; и поскольку каждая рука и нога должны быть перебиты в двух местах, по каждой из них наносятся два удара, что составляет восемь казней. После восьмого обморока священник подносит к его устам распятие, но Калас отворачивает голову, и тогда палач наносит ему последний удар — он раздробляет ему грудную клетку толстым концом железной полосы. Так умер Жан Калас. Это продолжалось два часа. После его смерти было доказано, что сын покончил самоубийством. Но убийство было уже совершено. Кем? Судьями. (Сильное волнение. Аплодисменты.) Другой факт. Вслед за стариком — юноша. Три года спустя, в 1765 году, в Абвиле, после ночи с грозой и сильным ветром, на мосту находят старое распятие из полуистлевшего дерева, три столетия украшавшее перила моста. Кто сбросил с перил это распятие? Кто совершил богохульство? Неизвестно. Может быть, какой-нибудь прохожий. Может быть, ветер. Где виновник? Епископ амьенский пишет увещательное послание. Вот что представляет собою увещательное послание: это приказ всем верующим, под страхом вечных мук, сказать, что они знают или предполагают о том или ином событии, убийственный приказ фанатизма невежеству. Увещательное послание епископа амьенского делает свое дело: сплетни, разрастаясь, приобретают характер доноса. Правосудие устанавливает — или полагает, что установило, — что в ночь, когда распятие было брошено на землю, два человека, два офицера, по имени Лабарр и д'Эталонд, проходили через Абвильский мост, что они были пьяны и распевали гвардейскую песню. Суд — абвильское сенешальство. Сенешалы Абвиля стоят советников Тулузы; они не менее справедливы. Издаются два приказа об аресте. Д'Эталонд скрывается, Лабарр взят. Начинается судебное следствие. Он отрицает, что проходил по мосту, но сознается, что пел песню. Абвильское сенешальство выносит обвинительный приговор; Лабарр апеллирует к парижскому парламенту. Его доставляют в Париж; там приговор находят правильным и подтверждают. Закованного в цепи, Лабарра вновь привозят в Абвиль. Я буду краток. Наступает чудовищный момент. Шевалье де Лабарра прежде всего допрашивают, затем подвергают мучительной пытке, чтобы заставить его назвать соучастников. Соучастников чего? Перехода через мост и пения. Во время пытки ему переламывают колено; услышав, как трещат переламываемые кости, его исповедник падает в обморок. На следующий день, 5 июня 1766 года, Лабарра волокут на городскую площадь; там уже пылает костер. Подсудимому читают приговор, затем отрубают кисть руки, затем железными щипцами вырывают язык, затем, из милости, отрубают голову и бросают ее в костер. Так умер шевалье Лабарр. Ему было девятнадцать лет. (Длительное глубокое волнение в зале.) ... Господа, ужасные вещи, о которых я вам только что напомнил, происходили в просвещённом обществе; жизнь была весела и легка, люди жили не задумываясь, не обращая внимания ни на то, что делается наверху, ни на то, что делается внизу; безразличие переходило в беззаботность, грациозные поэты — Сент-Олер, Буффлер, Жантиль-Бернар — сочиняли красивые стихи, при дворе один праздник сменял другой, Версаль сиял, Париж тонул в невежестве. И в это время, под влиянием религиозного фанатизма, судьи колесовали старика, а священники вырывали язык у юноши за то, что он пел песню. (Сильное волнение в зале. Аплодисменты.)"
Впрочем, ровно то же самое заявляли и сами революционеры в дни революции - да только кто их нынче слушает! Вот что говорил, например, якобинец Сен-Жюст: "Сетуют на революционные меры! Но мы - умеренные люди в сравнении со всеми другими правительствами. В 1787 году Людовик XVI велел перебить 8 тысяч человек, независимо от возраста и пола, на улице Меле и на Новом мосту. Двор повторил это на Марсовом поле. Двор вешал людей в тюрьмах; утопленники, которых вылавливали из Сены, были его жертвами. Было 400 тысяч заключённых; в год вешали по 15 тысяч контрабандистов, колесовали по 3 тысячи человек; в Париже тогда было больше заключённых, чем ныне. Во времена голода против народа посылали полки солдат. Прогуляйтесь по Европе: в Европе 4 миллиона заключённых, чьих криков вы не слышите... Ваш Революционный трибунал за год приговорил к смерти 300 преступников. А испанская инквизиция, разве она не погубила больше? А разве суды Англии за эти годы никого не осудили на казнь? А Бендер, который велел сжигать бельгийских детей! А узилища Германии, где погребён целый народ? О них вам не говорят! Может быть, вам говорят о милосердии королей Европы? Нет".
Но эти ужасы "старого режима" г-ну Акунину безразличны, вместо этого он предпочитает слёзно расписывать нам страдания Ея Величества французской королевы Марии-Антуанетты, которой в октябре 1793 года, при адском правительстве якобинцев, пришлось взойти на эшафот. "Её последние слова были обращены к палачу, которому она случайно наступила на ногу: "Прошу меня извинить, сударь"." Как трогательно, какая высочайшая деликатность! Но вот старику Каласу, которому перебивали кости в девяти местах - ни за что! в отличие от Марии-Антуанетты, в виновности которой сложновато усомниться - было не до подобных любезностей с палачом...
Другой либерал столетней давности - американец Марк Твен - тоже высказался о соотношении жестокостей "старого режима" и революции предельно ясно: "...о Франции и о французах до их навеки памятной и благословенной революции, которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей и взыскала древний долг - полкапли крови за каждую бочку её, выжатую медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду. Нужно помнить и не забывать, что было два "царства террора"; во время одного - убийства совершались в горячке страстей, во время другого - хладнокровно и обдуманно; одно длилось несколько месяцев, другое - тысячу лет; одно стоило жизни десятку тысяч человек, другое - сотне миллионов. Но нас почему-то ужасает первый, наименьший, так сказать минутный террор; а между тем, что такое ужас мгновенной смерти под топором по сравнению с медленным умиранием в течение всей жизни от голода, холода, оскорблений, жестокости и сердечной муки? Что такое мгновенная смерть от молнии по сравнению с медленной смертью на костре? Все жертвы того красного террора, по поводу которых нас так усердно учили проливать слезы и ужасаться, могли бы поместиться на одном городском кладбище; но вся Франция не могла бы вместить жертв того древнего и подлинного террора, несказанно более горького и страшного; однако никто никогда не учил нас понимать весь ужас его и трепетать от жалости к его жертвам..."
Да, этого от г-на Акунина не дождёшься. Оплакать Людовика XVI, его августейшую супругу Марию-Антуанетту, "несчастную" королевскую фаворитку мадам дю Барри, бывшего главного королевского цензора де Мальзерба ("Как же мне нравится Кретьен-Гийом де Мальзерб"), - это пожалуйста, ради бога. А вот оплакивать каких-то там нечиновных и незнатных простолюдинов? Увольте. А на могилу революционеров ещё и плюнем: "Здесь же окончил свою преступную жизнь и Робеспьер. Он тоже кричал – от боли (при аресте ему пулей раздробили челюсть). Но сильно жалеть этого человека мы не будем. Что посеял, то и пожал."
О, само собой разумеется, высочайшие особы, как Людовик XVI Бурбон и его венценосная супруга, сеяли совсем не то, что пожали, а разумное, доброе, вечное!
После прочтения подобных откровений остаётся только одно недоумение: каким же ветром вас, г-н Акунин, самого занесло в лагерь оппозиции, которая призывала к какой-то там "революции", пусть даже и "белой"? И что это за оппозиция у нас такая расчудесная, что подобных защитников "Ancien Rеgime" холит и лелеет в числе своих вождей?.. А что вы скажете, г-н Акунин, про арестованных по "Болотному делу" 6 мая? Логически рассуждая, вам следовало бы о них сказать: "Сильно жалеть этих людей мы не будем. Что посеяли, то и пожали."
Марии-Антуанетте, между прочим, легенда приписывает знаменитую фразу, произнесённую задолго до революции о голодном простонародье: "Если у них нет хлеба, то пусть едят пирожные". Но народ последовал этому совету своеобразно - в первые революционные годы в день обезглавливания короля - 21 января - праздничным блюдом являлась... фаршированная свиная голова. Для французской элиты, кажется, это стало хорошим уроком, и не только кулинарным. Для нашей - нет, как видно из публикации г-на Акунина. Ну, а кто не желает учить уроки истории, обречён на их повторение...